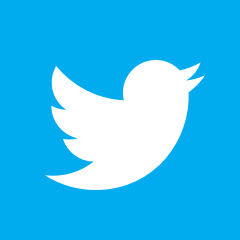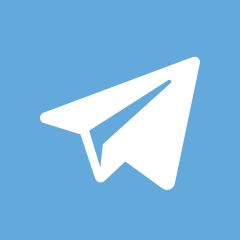Начиная с 2014 года Россия официально начала «вставать с колен», пережила «русскую весну» и воссоединилась с Крымом… Вместе с тем внутри страны начались поиски национал-предателей, а националисты раскололись на два противоборствующих лагеря и с оружием в руках отправились воевать друг против друга на восток Украины — одни за Киев, а другие за Новороссию.
Один из ведущих российских ученых, исследующих сферу национализма, директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС, приглашенный исследователь Института наук о человеке (Вена, Австрия) и Центра российских и евразийских исследований (Уппсала, Швеция), профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Владимир Малахов рассказал нам о природе всех этих преобразований.
— Русский национализм — очень разнородное явление. Но если попытаться проследить его общий исток, то он, пожалуй, лежит в 1960-х годах, в тогдашнем интеллигентском недовольстве советской властью. Это был один из плодов хрущевской оттепели, именно тогда стали заявлять о себе протестные настроения, националистические в том числе. И именно тогда вызревали все направления будущего русского национализма.
Одни — так сказать, красные, — считали, что в 1917 году с Россией произошло нечто совершенно замечательное и большевизм был движением по правильному пути, Сталин — наш рулевой, вождь русского коммунизма, и надо бороться с извращениями национал-коммунистической идеи, которые допустили после его смерти.
Другие, напротив, были убеждены, что в 1917 г. с Россией случилась катастрофа, что большевизм — трагедия и конец великой России. Это условные белые. То есть спустя полвека у нас шла недоигранная гражданская война. Тогда же возник национализм, в рамках которого нация понималась в биологических терминах. Это, если угодно, коричневые, будущие фашисты.
А чуть позже появились розовые как попытка синтеза белых и красных. С тех пор мало что изменилось. Но если для националистов 60–70-х годов узловая точка — это 1917 год, то для тех, кто родился в 70–80-е годы, — это 1991 год. Я думаю, что случившееся в 1991 году было эпохальным событием.
— Крупнейшая геополитическая катастрофа?
— То, что произошло в 1991 г., — глубоко травматичное событие. Оно еще ждет своего осмысления. Это травма утраты государства. Не важно, как к нему относиться. Важно, что Москва тогда, в советскую эпоху, была мировым центром власти — вторым наряду с Вашингтоном. Власти не только и не столько военно-политической, сколько идеологической и культурно-символической. И мы видели себя сквозь эту призму.
Мы стремились привлекать к себе, и мы были привлекательны. Для Латинской Америки, для Африки, для всего, как тогда говорили, «прогрессивного человечества». Советский проект — не будем забывать это — был проектом глобальной, планетарной эмансипации. Эмансипации труда, освобождением от гнета капитала. И в этом проекте, разумеется, не было и не могло быть места расизму. А теперь мы в такой мере утратили это планетарное, всемирное видение, что провалились едва ли не в племенное сознание. Сознание, в котором солидарность основывается на принципе крови — не на общности идеи, а на общности происхождения. То, что мы имеем сегодня, — какой-то провинциализм, если не сказать изоляционизм.
— Но мы и сейчас пытаемся что-то послать миру, нас, например, Марин Ле Пен поддерживает.
— Вот именно, нигде, кроме маргинальных кругов, мы не можем найти поддержку. Не случайно многие ностальгируют по СССР, и я думаю, что это связано не столько с идеализацией жизни при том строе, когда травка была зеленее, девушки красивее и мы моложе…
Это была такая политика, в которой этнические разделители между людьми не играли существенной роли. Когда известный британский социолог Зигмунт Бауман, будучи еще совсем молодым человеком, оказался в Вятке, его спросили, что его больше всего удивило в СССР. Он сказал: «Как много здесь живет людей разных национальностей, и как мало эта национальность для них значит».
— И 1991 год так травмировал русских, что стал драйвером всех нынешних националистических процессов…
— В этом движении есть минимум два совершенно несовместимых друг с другом мотива: этнический и имперский. И, соответственно, две группировки. Они по-разному воображают нацию.
Первая группировка — те, кто воображает нацию как этническое сообщество (и, шире, как славянское сообщество), исходят из того, что существует многосоставной русский народ, состоящий из трех ветвей — великороссов, малороссов и белорусов. Их искусственно разделили. И какие-то злые силы в Москве пытаются их разделить окончательно. Поэтому русские этнические националисты были категорически против присоединения Крыма. Они утверждали, что это поссорит русских и украинцев.
А вторая условная группа — имперские националисты. Для них империя — это ценность в себе. Она важна сама по себе и подлежит всяческому обереганию. В ней русские должны играть первую скрипку, а остальные должны либо выстроиться по ранжиру, либо стать русскими.
— По той же причине одни националисты уехали воевать за Новороссию, а другие за Киев?
— Именно. Они слишком по-разному воображают себе нацию. Для одних это некий славянский народ, борющийся за свободу, и все, что может рассорить части этого народа, — это та опасность, с которой нужно воевать.
А для других — все, кто не разделяет веру в русскую империю, являются врагами и должны быть уничтожены. Так что это такие романтики и с той, и с другой стороны… Не случайно среди них много писателей, музыкантов и даже борцов за коммунистическую утопию. Ведь если рассматривать национализм как низовое движение, не обращая внимание на разного рода манипуляции сверху, то очевидно, что он возникает из протеста, из протестных настроений.
— А националистические настроения в обществе в широком смысле, что их вдохновляет?
— Я бы сказал, тут ключевую роль играют четыре момента. Первый — это тоска по величию. Как ни крути, а на протяжении нескольких веков наша страна была сверхдержавой, вне зависимости от того, как она называлась. Превращение из чего-то великого в нечто, с чем мало кто считается, для многих очень болезненно.
Второй момент — это переживание разрыва некогда единого пространства. Раньше вы могли свободно путешествовать между Вильнюсом и Душанбе. Неважно, что вы этого не делали. Важно, что существовало единое коммуникативное пространство, и оно разрушилось. Третий — это ощущение бессилия в связи с культурными правами русских за рубежом. Помните разговоры про 25 миллионов соотечественников, которые были так популярны в 1990-х годах? При всех мифологизациях этой проблемы она вполне реальная. Например, в Туркмении русским до сих пор живется очень несладко.
И четвертое — ощущение исторической несправедливости в связи с изменением изображаемой анатомии. От национального тела, хотя его в СССР так не называли, отрезали какие-то куски, и в этих местах продолжает болеть.
— Может быть, это подпитывает нынешний альянс власти и общества?
— Думаю, что да. Сложилась почти уникальная ситуация, которой не было уже очень давно. Любопытно только, что тема воссоединения с Крымом никогда не присутствовала в официальном дискурсе.
Мы никогда не вели себя как Китай, который все время заявляет о своем несогласии с отделением Тайваня. Или как Япония, которая постоянно ставит вопрос о четырех островах Курильской гряды. Мы всегда подчеркивали приверженность принципу территориальной целостности и нерушимости границ, прочерченных в 1991-м. И когда оказалось, что мы вдруг передумали, в мире это вызвало, мягко говоря, непонимание.
— Кстати, а как связаны националистические настроения и миграция?
— Тема миграции — это своего рода губка, которая впитывает в себя самые разные темы. Все, чем люди могут быть недовольны, будь то способность властей отвечать на их запросы, городская инфраструктура (школы, больницы) и так далее, все эти проблемы можно уместить в проблеме миграции.
— Так вот об этом и речь. Ведь есть мнение, что власти осознанно уводят социальный протест в националистическое русло и тем самым его нейтрализуют.
— Я бы сказал, что редукция социальных проблем к проблеме миграции — это результат безответственности капитанов нашего медиабизнеса и безответственного поведения ряда политиков.