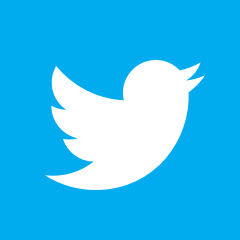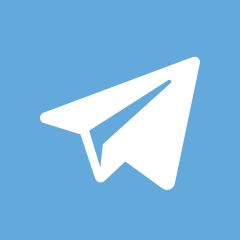Досрочно освободившийся националист и аспирант экономфака Виктор Луковенко — об исламистах в Бутырке, ваххабитском прозелитизме, гомосексуализме блатных, бурятском расизме и о том, как тюрьма меняет взгляды
Недавно из бурятской ИК-8 досрочно освободился националист Виктор Луковенко. Аспирант экономического факультета МГУ был арестован в июне 2010 года и получил восемь лет по делу о нанесении тяжких телесных повреждений приезжему из Швейцарии Энтони Кунанаяку (в результате пострадавший умер). Луковенко рассказал о Бутырской тюрьме, ваххабитском прозелитизме, противоречивой сибирской закалке, гомосексуализме блатных, бурятском расизме и красноярских пресс-хатах.
Я осознал себя русским на фоне несправедливости, через боль. Стал националистом не потому, что кто-то мне дал музыку послушать. Я как проклятый наблюдал уничтожение нашего народа. Когда мне было четыре года, русских в Средней Азии сжигали, вешали и вырезали, а наше государство это замалчивало.
Уже взрослым я волонтерил в организации «Русский вердикт», помогал националистам в тюрьмах, у меня были общие дела с Женей Хасис. Ее внешность меня не смущала, я привык к тому, что в движении разные люди — от татар до евреев. Главное, что у них присутствует русская кровь, и она не спит. Так я попал в поле зрения органов. 4 ноября 2009 года я оказался в компании, где алкоголик и наркоман с диагнозом забил темнокожего гражданина Швейцарии. В тюрьму попали два человека — я и Антон Бурмистров, которые пальцем иностранца не тронули. Начинать рахову (расовую войну. — ТД) в праздничный день в московском метрополитене, когда у меня диссертация на носу? С головой у меня все нормально.
Суд дал мне восемь лет. Я просил тех, кто видел, что случилось, дать показания, что я не убивал. Они отказались. Это показатель. Люди боятся человека в погонах и влегкую разменивают дружбу и братство на страх. Ничего подобного я не наблюдал ни у исламистов, ни в преступном мире, там более прочные отношения.
Проехав сибирский этап, отсидев в Бурятии, я понял, что московские централы — идеальные профилактории. На «Бутырке» сидит много коммерсантов и много быдла. Но там все доступно и терпимо: телефоны последних моделей, сотрудники обращаются на вы, не бьют. Солярий есть — за деньги. За год я набрал 20 килограмм.
Когда меня закинули в хату (камеру. — ТД), то представился, что родом с Узбекистана. Это правда. Узбеки встретили как земляка, а когда с подачи сотрудников поняли, кто я, им было уже сложно изменить отношение ко мне. Потом меня закрывали в наполненные кавказцами камеры, где из двадцати человек было всего несколько славян. Продольные говорили: «Вам скинхед, разберитесь!». Других обозначений они не знают, а у нас, националистов, десяток оттенков. Были острые конфликты с молодыми дагестанцами, приходилось спорить на повышенных тонах. Но до драк и избиений дело не доходило. Главное — найти общий язык.
Люди не знают, что такое настоящая пресс-хата. В чистом виде я ее увидел в Красноярске. Да, в Москве можно создать дискомфортные условия. Когда нашего парня заводят в хату, там уже знают, кто он. Да, тяжело, враждебное окружение. Но надо помнить, что может быть гораздо хуже. Ты думаешь, вот оно, дно, но открывается люк, а там еще десять этажей вниз. Подниматься — огромный труд. Это вопрос выживания: физического и духовного. Кто-то ломается: тюрьма тебя пытается взять наскоком, если даешь слабину, тебя доводят до битья, до тряпки. Таких случаев было много у правых: нас проще давить. А исламиста труднее, — его братья голову оперативнику пробьют.
Но были ребята из иного теста. Кто-то из наших смотрел за хатами, кто-то на лагерях бродягами стали. Весной 2011 года в моей хате даже был котел корпуса (склад продуктов и сигарет, которые заключенные собирают, чтобы бесплатно давать нуждающимся. — ТД), через нас решались серьезные вопросы. Правых камер на корпусе было несколько, но недолго — пару месяцев. Тогда как раз народ по Манежке заехал. Подо мной, минус два этажа, сидел на продоле смертников Никола Королев (продолом смертников в Бутырской тюрьме называют изолированный коридор с камерами, где в СССР держали приговоренных к высшей мере наказания, а теперь содержат пожизненно осужденных. — ТД). Мы общались через форточку.
Исламский прозелитизм в тюрьмах массовый. Он направлен не только на заключенных, но и на администрацию. Но бывает, что и сотрудники предлагают принять ислам. Например, нашу хату курировал известный опер Магомед, он работал по правым, всегда ходил с оружием. Я как-то задал ему про это вопрос. «Я никого не боюсь, только Аллаха», — ответил Магомед и дал почитать Паше Cкачевскому Коран. После этого, подозреваю, тот тайно принял ислам.
Я не раз проводил эксперименты в Бутырке. Отрастил бороду, как у салафитов, без усов и начал смахивать на кавказца. Захожу на забитую сборку — место, где люди накапливаются после судов, ожидая, когда их разведут по хатам. Кавказская молодежь расступается, освобождает место: «Садись, брат!». И начинают разговоры про русское быдло.
В бурятской ИК-8, где я потом сидел, достаточно свободно жили исламисты, — дело Саида Бурятского процветает. У них была поддержка с воли, за деньги им заносили запрещенный протеин. Они качались, хотя 99% осужденных не имели доступа к спортивному залу, отращивали бороды и поднимали палец кверху. На фоне забитой и голодной массы чувствуешь разницу. Случаи принятия ислама славянами часты. Мы таких называли «торпедами». Если у исламской общины возникают проблемы с милицией, новообращенному говорят: «Друг, надо пострадать за веру, один сотрудник не любит Аллаха». И «торпеда» идет провоцировать. Так же и против блатных, только эти не в изолятор отправят, а палками забьют.
Этап длился полтора месяца — июнь-июль 2011 года. В Челябинске провел три недели, дальше попал в Красноярск. Недели там мне хватило на всю жизнь. Красноярский ФСИН — это управление, где опыт Гулага сохранен и бережно, по-современному оформлен. Лагеря рабочие, даже деньги заработаешь на промке — это плюс. Но отношения между администрацией и заключенными жесткие. Сидеть не сахар, и поэтому туда отправляют многих со статьями 208, 209, выходцев с Кавказа.
В пересыльной тюрьме почти каждая камера — это пресс-хата, сито для контингента. В каждой шестнадцатиместке сидят по два «директора» и два человека им в помощь. Они имеют власть над остальными. Директора — это красная элита, у них своя философия, понятия, они друг к другу ходят в гости. Качество людей невероятное — спортсмены-разрядники с двузначными сроками. Директор выше на две головы зека, выросшего в криминале с детства, — они видят с порога, кто заходит в камеру, и заявляют с пафосом: «Мы — преступность XXI века! Которая шагает в ногу с оперативной службой».