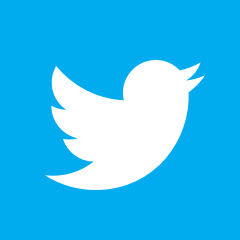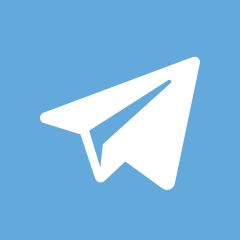— Как к вам относились в колонии сотрудники?
— Честно скажу, меня не били. Физического воздействия со стороны заключённых или сотрудников ФСИН не было. Там была жёсткая установка: Дёмушкина не бить. Я это понял на приёмке. Я туда шёл буквально по телам избитых товарищей. Меня там отдельно развернули, поставили. Я повернулся и говорю: «Ребята, я как бы полностью готов». На что мне сказали: «К чему ты готов? Дмитрий Николаевич, не надо клеветать на нас, проходите».
— Если не били, то что было самое тяжёлое?
— Гораздо страшнее избиений режим содержания. Ты либо стоишь по шесть-восемь часов в день, либо сидишь с прямой спиной, ножки вместе, ручки на коленях, и нельзя ничего сделать. На любое действие, например нос почесать захотелось, нужно получать разрешение от активистов, которые за всеми постоянно следят. Разговаривать можно было только на прогулке по две минуты. Но прогулок практически не было и порой они длились минут десять. Поэтому общаться там в принципе не получалось. Если я о чём-то беседовал с активистами, то они потом обязательно должны были записать разговор.
— Как это?
— Там была тетрадка специальная, она так и называлась «Дмитрий Дёмушкин». И там они писали всё, что я им сказал, и всё, что они мне. Вести эту тетрадь было их обязанностью, и если кто-то не записал, то они друг друга постоянно сдавали. Атмосфера у активистов тоже была очень тяжёлая. Друзей там не было ни у кого.
— Получается, восемь месяцев вы занимались только тем, что целыми днями сидели или стояли неподвижно?
— Да. Вдобавок там было ещё очень холодно. Я вообще столько холода не видел, хотя и в проруби окунался ежегодно, и считаю себя человеком, закалённым достаточно. Но там нельзя согреться. В бараке у нас было +11 на термометре, иногда до +13 доходило. Но нам не давали одевать тёплые вещи. Мы спали в футболке и трусах, а одеяльце очень тоненькое было, и сон превращался в муку. Сразу отрубаешься из-за усталости, а через несколько часов просыпаешься от холода. Вставать нельзя. Единственная радость — выпить горячего чаю в столовой. Но иногда чай был холодным, и это было очень болезненно. Казалось бы, мелочь. А а эта мелочь тогда с ума сводила.
— Кормили нормально?
— Рацион обычный, к нему никаких нареканий. Давали баланду, каши разные. В этом плане, думаю, меню не отличалось от любой другой зоны. В каши добавляли разное мясо. Хотя в целом, конечно, было голодно. До тюрьмы я весил 105 кг, а за эти восемь месяцев дошёл до 60 кг. Когда приехали меня снимать телевизионщики из Москвы, на меня там напялили толстый свитер, чтобы хоть как-то скрыть огромную потерю массы. Но всё равно скрыть худобу не смогли. Московские силовики потом местным по этому поводу выговорили, и меня из сектора перевели.
— Были ещё какие-то особенности содержания в этом секторе?
— Когда наша группа двигалась по лагерю, на нас даже смотреть было категорически запрещено. Все заключённые должны были отворачиваться. Весь мой срок каждые два часа приходил ко мне сотрудник — и я, что бы ни делал, должен был отчеканить: «Осуждённый Дёмушкин Дмитрий Николаевич 1979 года рождения, осуждён по статье 282 части 1 на срок два года шесть месяцев, начало срока 21.10.2016, конец срока 20.04.2019, склонен к экстремизму и терроризму, нападению на сотрудников внутренних органов, такой-то отряд». И ещё каждый час ко мне приходили ночью — сотрудник раскрывал одеяло и светил фонариком в лицо. Некоторые из них при этом меня будили, поэтому спать приходилось урывками. Но потом я и к этому привык.
— В таких условиях конфликтов либо дружбы с кем-то особо не было?
— Если не дают даже разговаривать и смотреть друг на друга, то у вас не может быть никаких конфликтов ни с кем. Вы не можете ни с кем подружиться или объединиться. Вы с утра до вечера бегаете, все команды выполняете на бегу, с опущенной головой, руки за спиной всегда, даже в бараке. Искусственно создаётся ситуация, как будто вы опаздываете всё время. То есть вам даётся полторы минуты на застилку кровати, полторы минуты, чтобы одеться, полторы минуты, чтобы построиться в локальном секторе. Всё это быстро, всё это бегом, всё это с криками постоянными. И вы живёте в таком искусственно созданном нервном напряжении, что вам ни до чего и ни до кого.
В туалет ходите с человеком, который стоит и смотрит, как вы делаете свои дела. И ночью каждый выход в туалет записывается в журнал. Вам ложку не дают, ручку не дают, там ничего своего нельзя иметь. Ложка даётся на время приёма пищи и тут же забирается. Ручка даётся для написания писем на 15 минут. По идее, они должны даваться ежедневно, но у нас эти 15 минут были раз в неделю. И чтобы ответить на одно письмо, мне требовалось пять недель.
— Вас же, по идее, должен был навещать прокурор. Жаловаться ему, видимо, не вариант?
— Да, он приходил, но кто там будет жаловаться? Заходили в барак всякие люди из управы, прокуроры, все им: «Здравст-вуй-те». — «Вопросы есть?» — «Нет». — «На личный приём кто хочет?» — «Нет». — «Все нормально?» — «Да». Всё, разворачиваются, уходят. Можно поднять руку, но где вас потом найдут-то?
— Судя по вашим рассказам, вам пришлось тяжелее, чем пожизненно осуждённым, которые сидят на особом режиме.
— У нас люди ездили на областную олимпиаду для заключённых — проводилась такая, и там были те, кто содержится на особом режиме. Они говорили, что у нас в Покрове там ад настоящий, бесчеловечные условия. То есть даже заключённые с особого режима удивлялись, как у нас в ИК-2 всё устроено.
— Что изменилось на воле, пока вас не было?
— За время заключения я, конечно, очень много потерял, в том числе в личном плане. Моя гражданская жена не выдержала и ушла от меня, очень тяжёлая для меня история. Моя школа единоборств в организационном плане тоже подразвалилась. Сейчас пытаюсь восстановить её работу.