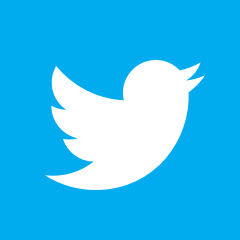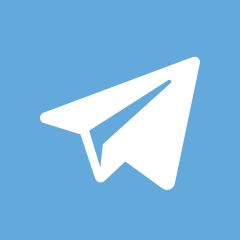![]()
75-летний джазмен Алексей Козлов ничуть не обижается, когда слышит в свой адрес «Козел на саксе», тем более что кличку эту дал ему добрый приятель юности и под этим прозвищем знаменитый музыкант вошел в советскую историю как символ стиляжничества и нонконформизма. Не удивительно, что несколькими поколениями слушателей Алексей Семенович воспринимается как явление не только эстетическое, но и социокультурное.
В последние годы на своих концертах между вздохами саксофона он параллельно много общается с публикой, за что получил от друзей даже новое прозвище — «проповедник». Впрочем, проповедует знаменитый музыкант прежде всего свободу. Он уверен, что сознательный гражданин должен критически относиться к любой власти, воспитывать в себе нонконформизм. Такая позиция всегда актуальна, а в утомленном политическими противостояниями и потому ко многому уже равнодушном обществе, какое сегодня представляет собой Украина, она приобретает особую важность.
— Вы начинали как музыкант в те годы, когда джаз не особо приветствовали, называли тлетворным буржуазным искусством, «музыкой толстых». Есть ли у вас ощущение, что теперь вы живете в стране победившего джаза?
— На самом деле никто ничего не побеждал, и сам джаз за себя никогда не боролся. В разных странах джаз развивался по-разному, и, на мой взгляд, сейчас самое горькое положение с ним именно в Америке, которая является, в общем, родоначальницей этой музыки. Сейчас он не очень там востребован, его играют и знают только в нескольких городах.
Что касается России, то здесь тоже не все так однозначно. Джаз, например, в сталинские времена, довоенные, властью даже поддерживался. Это мне рассказывал лично Лазарь Каганович. Когда ему меня представили, он сказал: «А знаете, я ведь в 1935 году спас советский джаз». И действительно, я потом порылся в Ленинской библиотеке, в газетных подшивках той поры и обнаружил, что на самом деле в 1935 году Сталин специально спровоцировал дискуссию между «Известиями» и «Правдой» на тему «Нужен ли джаз советскому народу?». И заранее было известно, что «Правда», которая боролась в статьях и письмах читателей за джаз, победит.
Сталин тогда, в отличие от Гитлера, угадал, что джаз способен быть средством пропаганды. Вспомните фильм «Веселые ребята» или музыку Исаака Дунаевского и Александра Цфасмана тех лет. Правда, это был такой советский эстрадный джаз, под который в основном исполнялись идеологические гимны вроде «Нам песня строить и жить помогает».
Кстати, и во время войны джаз сыграл колоссальную роль, особенно песни Леонида Утесова. «Два Максима», «Шел старик из-за Дуная», «Барон фон Пшик» поднимали дух солдат. А в 1947 году Сталин решил все это прихлопнуть, поскольку понял, что проиграл войну идеологическую — не фашистам, а американцам. И начал погром, частью которого были и постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», и борьба с космополитами, и анафема джазу и объявление его враждебным искусством. И эти гонения, когда к джазу относились как к чему-то страшному, опасному и чуждому, продолжались вплоть до 1957 года. 1957 год был переломным.
Я часто об этом говорю и сейчас повторю: Хрущев совершил огромную ошибку, приподняв «железный занавес» буквально на месяц, во время фестиваля молодежи и студентов в Москве. И все увидели, что такое иностранцы. До этого советские люди думали, что все они делятся всего на две группы — небритые, худые, в рваных пальто безработные либо пузатые миллионеры с сигарами и в цилиндрах, этакие «мистеры твистеры» карикатурные. А тут приехали простые люди в цветных рубашках и джинсах, добрые, улыбающиеся. И все мы были этим шокированы. И начали сомневаться в правоте и честности советской власти. Потом гайки затянули, конечно, но то поколение осталось. Этих людей называют «шестидесятниками», и я к ним принадлежу. Для нас нонконформизм стал не каким-то частным явлением, а довольно массовым. Диссидентство зародилось именно в дни фестиваля 1957 года. Конечно, внутренне мы были к этому готовы, мы уже слушали вражеские голоса, но когда увидели воочию этих людей — последние сомнения улетучились.
— А кто эти «вы» — золотая молодежь столичная?
— Нет, «золотая молодежь» — это были дети партийных чиновников, научной и культурной элиты. А мы были простые, но хорошо информированные и самостоятельно думающие люди. Нонконформисты. Мы не верили тому, что пишет газета «Правда» и что по радио говорят. И когда нам пытались втемяшить, что джаз — это ужасная, уродская вражеская музыка, я этому не верил. Потому что уже был ее фанатиком. Я уже видел «Серенаду Солнечной долины» — и мне этого было достаточно. И когда я стал студентом Архитектурного института в 1953 году, то с друзьями мы читали польские и югославские журналы, которые у нас продавались. У меня до сих пор сохранились словари. Ведь «железный занавес» в тех странах был не такой плотный, как в СССР, а дырявый, туда просачивалась информация. И журналы типа «Пшекруй» или «Довкола свята» печатали новости джаза, материалы о современной живописи, мы знали об абстракционистах, импрессионистах, которые были тогда запрещены.
Да, собственно, было запрещено все. Даже поэты, живущие рядом с нами, — Ахматова, Пастернак, не говоря уже о репрессированных в 30-е годы. А мы нарочно все эти книги доставали. Родителям моим, конечно, это не очень нравилось. Они были коммунисты, очень честные люди, верящие в идеалы, которые им партия предлагала. Отец мой был психолог, мама преподавала в музыкальной школе, хотела, чтобы я играл классику, но совершенно зря. Я над родителями подтрунивал, даже, можно сказать, издевался над ними по молодости лет, не понимая, какую это им приносит боль. Но я был с юности настоящим диссидентом. Я перестал верить взрослым, учителям, радио, газетам и твердо знал, что все они врут. Был максималистом. И верил, что джаз не врет.
— Значит, джаз в СССР стал возрождаться после фестиваля молодежи и студентов?
— Ему стало полегче. Но скоро джаз снова начали серьезно притеснять. И связывали это, между прочим, с борьбой с сионизмом. Я знаю людей из Института философии, которых в 70-е годы приглашали в ЦК разработать научные основы антисемитизма. Это был возврат к сталинизму. Сталин-то ведь был антисемит махровый, хотя и скрывал это. В окружении у него было вроде бы много евреев, но он их терпеть не мог. У меня в «Арсенале» работал монтировщик декораций, бывший философ, который уволился и отказался писать диссертацию на закамуфлированную антисемитскую тему.
— А какое это имеет отношение к джазу? Это ведь не еврейская музыка, не клезмер…
— Почему же? В Европе, да и в Америке, кто были первые джазмены? Считается, что негры, но на самом деле джаз создали креолы. Полукровки испано-африканские. Это были высокообразованные люди, многие из них учились в Европе. Дюк Эллингтон происходил из креольской семьи, его отец, между прочим, служил дворецким в Белом доме, а мать была потрясающе интеллигентной женщиной. И среди этих музыкантов кларнетисты и пианисты, как правило, были евреями. Бенни Гудмен, Фрэнк Тешемахер — все это евреи. А вот англосаксов в джазе практически не было. И они, кстати, так рьяно боролись с джазом, что нашим советским чиновникам и не снилось. В 20-е годы они вели против джаза непримиримую войну. Вы знаете, что Форд организовал специальный Фонд борьбы с джазовыми танцами? И все клерикалы его поддержали. Я читал доклады. Выступает священник и приводит статистику, сколько девушек лишились невинности на танцах и сколько драк там устроили черные подростки. В общем, и там велась борьба. И Гитлер приговорил заочно Бенни Гудмена, официально объявленного королем джаза, к смертной казни по двум причинам: во-первых, он олицетворял «музыку выродков», а во-вторых, был евреем.
— Но в брежневскую эпоху в Советском Союзе к джазу все же относились терпимее…
— Конечно, о тотальном запрете речь не шла. Мы с «Арсеналом» даже выступали за границей на фестивалях. Но надо было все время изворачиваться, искать компромиссы, играть в кулуарные игры. Я даже написал композицию «Опасная игра» — именно на эту тему, как я играл с этими чиновниками, с властью. Когда мы начали исполнять с «Арсеналом» оперу «Иисус Христос — суперзвезда», это расценили как идеологическое преступление. Хиппи ломились на концерты, а нас тут же обложило КГБ, начали устраивать провокации всяческие, пытались выгнать моих духовиков из консерватории, меня вызвали на допрос. А я говорю: «Дайте мне бумагу». Я ведь еще работал в отделе теории дизайна в академическом институте и поднаторел писать разные справки. Набил, так сказать, руку на марксистской риторике. Я сел и таким «марксистским» языком написал толстую докладную записку — зачем, мол, нужен джаз-рок в Советском Союзе. И обосновал это с марксистской точки зрения: не дай бог, дескать, его запрещать, надо создать советский джаз-рок, чтобы отвлечь нашу молодежь от увлечения Западом. Сделал такой демагогический донос на самого себя. И больше меня никуда не вызывали.
— А вообще ситуация сопротивления художнику помогает? Это хороший для него стимул? Или лучше все же, когда все разрешено?
— Знаете, как ни странно, но у меня сложилось убеждение, что чем хуже, тем лучше. То есть чем больше запретов, тем больше стимулов. Но это касается обычных талантливых людей. Для гения совершенно безразлично — запрещают его или нет. Он все равно будет пеленговать что-то сверху — и транслировать. Но таких людей рождаются единицы на эпоху. А просто для талантливых людей, к которым я и себя отношу, лучше, чтобы были запреты. Но, кстати, как, например, в советское время нас запрещали, так и сейчас запрещают. Правда, делают это гораздо изощреннее и жестче. Раньше я мог перехитрить власть хотя бы демагогией.