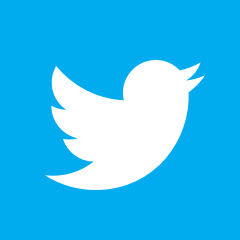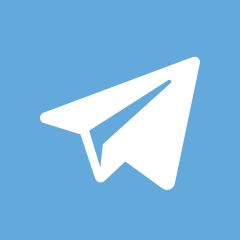Несколько великолепных отрывков из книги:
1. — Ну, так что ж! – воскликнул Спартак с величественным равнодушием. – Я умру славной смертью за правое дело, и кровь, пролитая нами, оплодотворит древо свободы, выжжет новое клеймо позора на лбу угнетателей, породит бесчисленных мстителей. Пример для подражания – вот лучшее наследство, которое мы можем оставить потомкам.
2. Спартак продолжал прохаживаться по дорожке и, то убыстряя, то замедляя шаги, дошел до площадки, расположенной перед самой виллой. Слова старого самнита смутили фракийца.
«Да ведь он прав, клянусь всеми богами Олимпа!.. Умрут его сыновья, что же будет радовать его на старости лет? – думал Спартак. – Мы победим, но ему-то что даст свобода, которая придет рука об руку с нищетой, голодом и холодом?.. Он прав!.. Да… Но тогда? Чего же я хочу, к чему стремлюсь?.. Кто я?.. Чего добиваюсь?..»
Он остановился на мгновение, словно испугавшись заданных им самому себе вопросов; потом опять медленно стал шагать, склонив на грудь голову под бременем гнетущих мыслей.
«Следовательно, то, чего я добиваюсь, лишь химера, пленившая меня обманчивым обликом правды, и я гоняюсь за призраком, которого мне никогда не догнать? Если я и настигну его, он рассеется, словно туман, а мне будет казаться, что я крепко держу его. Что же это? Только сновидение, греза, пустая фантазия? И ради своих бредней я проливаю потоки человеческой крови?..»
Подавленный этими мыслями, он остановился, потом сделал несколько шагов назад, как человек, на которого наступал невидимый, но грозный враг – раскаяние. Но тотчас же придя в себя, он высоко поднял голову и зашагал твердо и уверенно.
– Клянусь молниями всемогущего Юпитера Олимпийского! – прошептал он. – Где же это сказано, что свобода неразлучна с голодом и человеческое достоинство может быть облачено только в жалкие лохмотья самой грязной нищеты? Кто это сказал? На каких божественных скрижалях это начертано?
Поступь Спартака вновь стала твердой и решительной; видно было, что к нему возвращалась обычная бодрость.
«О, – размышлял он, – теперь ты явилась ко мне, божественная истина, сбросив с себя маску софизмов, теперь ты передо мной в сиянии твоей целомудренной наготы, ты вновь укрепила мои силы, успокоила мою совесть, придала мне бодрости в моих святых начинаниях! Кто, кто установил различия между людьми? Разве мы не рождаемся равными друг другу? Разве не у всех у нас то же тело, те же потребности, те же желания?.. Разве не одни и те же у всех у нас чувства, восприятия, ум, совесть?.. Разве не все мы дышим одним и тем же воздухом?.. Разве жизненные потребности не являются общими для всех? Разве не все мы вдыхаем один и тот же воздух, не питаемся одинаково хлебом, не утоляем все одинаково жажду из одних и тех же источников? Может ли быть, чтобы природа установила различия между людьми, населяющими землю?.. Может ли быть, чтобы она освещала и согревала теплыми лучами солнца одних, а других обрекала на вечный мрак?.. Разве роса, падающая с неба, для одних полезна, а для других пагубна? Разве не родятся все люди одинаково через девять месяцев после зачатия, будь то дети царей или дети рабов? Разве боги избавляют царицу от родовых мук, которые испытывает несчастная рабыня?.. Разве патриции наслаждаются бессмертием и умирают по-иному – не так, как плебеи?.. Разве тела великих мира сего не подвергаются тлену так же, как и тела рабов?.. Или, может быть, кости и прах богачей отличаются чем-либо от праха и костей бедняков?.. Кто же, кто установил это различие между одним человеком и другим, кто первый сказал: «Это – твое, а это – мое», и присвоил себе права своего родного брата?.. Это, конечно, был насильник, который, пользуясь своей физической силой, придавил своим могучим кулаком выю слабого и угнетенного!.. Но если грубая сила послужила для того, чтобы была совершена первая несправедливость, насильственно присвоены чужие права и установлено рабство, отчего же мы не можем воспользоваться своей силой для того, чтобы восстановить равенство, справедливость, свободу? И если мы проливаем пот на чужой земле, чтобы вырастить и прокормить наших сыновей, отчего же мы не можем проливать нашу кровь для того, чтобы освободить их и добиться для них прав?..»
Спартак остановился и, вздохнув, с глубоким удовлетворением закончил свои размышления: «Да ну его!.. Что он сказал?.. Бессильный, малодушный, закосневший в рабстве, он совсем забыл, что он человек, и, подобно ослу, бессознательно влачит тяжесть своих цепей, как скот, прозябая, забыв о достоинстве и разуме!»
3. Красс собрал на преторской площадке все свои войска и построил их в каре, посреди которого поставил обезоруженных, посрамленных и подавленных беглецов из легионов Муммия. Красс, обладавший даром слова, выступил с красноречивым обвинением; резко и сурово укорял он беглецов за малодушие, которым они запятнали себя, обратившись в бегство, словно толпа трусливых баб, и, побросав оружие, при помощи которого их предки, перенеся несравненно более тяжелые испытания, завоевали весь мир. Он доказывал необходимость положить конец глупым страхам, благодаря которым в течение трех лет по всей Италии свободно бродят полчища гладиаторов, презренных рабов, которые кажутся сильными и доблестными не по заслугам своим, а вследствие трусости римских легионов, некогда стяжавших славу своей непобедимой мощью, а ныне ставших посмешищем всего мира.
Красс заявил, что больше не потерпит позорного бегства: пришло время доблестных дел и блестящих побед; раз для этого недостаточно самолюбия, чувства собственного достоинства и чести римского имени, то он добьется побед железной дисциплиной и спасительным страхом перед самыми жестокими наказаниями.
– Я снова введу в силу, – сказал в заключение Красс, – наказание децимацией, к которой в редчайших случаях прибегали наши предки; первым ее применил в своих легионах децемвир Аппий Клавдий в триста четвертом году римской эры. Уже почти два столетия не было печальной необходимости прибегать к такой мере, но раз вы только и делаете, что бежите от врагов, да еще от каких врагов, и притом позорно бросаете свое оружие, клянусь богами Согласия, я применю к вам эту кару, начиная с сегодняшнего дня, и подвергну ей те девять тысяч трусов, которые стоят здесь перед вами, чувствуя всю тяжесть своего позора. Посмотрите на них, они стоят бледные, понурив от стыда головы, и из глаз у них катятся слезы слишком позднего раскаяния.
Как ни упрашивали Красса самые почтенные трибуны и патриции, которых в лагере было очень много, он остался неумолим, не захотел отказаться от принятого им сурового решения и приказал привести его в исполнение до наступления вечера. Бросили жребий, и из каждого десятка солдат один, отмеченный злополучным роком, передавался сперва ликторам, которые секли его розгами, а затем ему отрубали голову.
Эта ужасная кара, зачастую постигавшая как раз того, кто храбро сражался и вовсе не был повинен в бегстве товарищей, произвела в лагере римлян глубокое и чрезвычайно горестное впечатление. Во время этой мрачной экзекуции, когда за несколько часов было обезглавлено девятьсот солдат, произошло четыре или пять тягостных эпизодов. За чужую трусость понесли наказание пятеро или шестеро доблестных легионеров Муммия, чья отвага была отмечена всеми под Сублаквеем. Среди этих пятерых или шестерых храбрецов, оплакиваемых всеми, наибольшее сочувствие вызывал двадцатилетний юноша по имени Эмилий Глабрион, до последней минуты мужественно выдерживавший натиск гладиаторов; он получил две раны и не тронулся с места; раненого подхватило потоком всеобщего бегства и отнесло далеко от поля сражения. Это было известно всем, все это громогласно подтверждали, но его поразила неумолимая судьба, – жребий пал, и он должен был умереть.
Этот отважный юноша предстал перед претором среди всеобщих рыданий; бледный как смерть, но полный спокойствия и стойкости, достойной Муция Сцеволы и Юния Брута, он громко сказал:
– Децимация, примененная тобою, не только полезна и необходима для блага республики, но и справедлива: два наших легиона заслужили ее своим постыдным поведением в последнем сражении. Судьба не благоприятствует мне, и я должен умереть. Но поскольку ты, Марк Красс, знаешь, как знают и все мои товарищи по оружию, что я не был трусом и не бежал, а сражался, как подобает сражаться римлянину, мужественно и отважно, хотя я был ранен, как ты видишь, – и он указал на свою перевязанную левую руку и на окровавленную повязку, стягивавшую его грудь под одеждой, – я все же оказывал сопротивление натиску врага, и если ты признаешь мою храбрость, прошу у тебя милости: да не коснется меня розга ликтора, пусть меня только обезглавят!
Плакали все собравшиеся около претора, который был бледен и расстроен. На слова юноши он ответил:
– Я согласен исполнить твою просьбу, доблестный Эмилий Глабрион. Сожалею, что строгий
закон наших предков запрещает мне сохранить тебе жизнь, как ты того заслужил…
– Умереть ли на поле брани от руки врага или здесь на претории под топором ликтора – одно и то же, потому что жизнь моя принадлежит родине. Я рад, что все здесь знают, и в Риме узнает мать моя, узнает сенат и римский народ, что я не был трусом… Смерть не страшна мне, раз я спас свою честь.
– Ты не умрешь, юноша герой! – закричал один из солдат, выходя из рядов войска Муммия; он подбежал к претору и, проливая слезы, громко воскликнул дрожавшим от волнения голосом:
– Славный Красс, я – Валерий Аттал, римский гражданин и солдат третьей когорты третьего легиона, одного из двух, которые участвовали в бою и потерпели поражение под Сублаквеем. Я находился рядом с этим отважнейшим юношей и видел, как он, раненный, продолжал разить врага в то время как мы все обратились в бегство, в которое и он был вовлечен помимо своей воли. Так как топор ликтора должен поразить одного из десяти бежавших, пусть он поразит меня, бежавшего, но не его, потому что он, клянусь всеми богами, покровителями Рима, вел себя, как истый римлянин старого закала.
Поступок этого солдата, который в минуту паники обратился в бегство, а теперь проявил такое благородство, усилил всеобщее волнение; но, несмотря на трогательное соревнование между Атталом и Глабрионом, из которых каждый требовал кары для себя, Красс остался неумолимым, и Глабрион был передан ликторам.
Стенания в обоих легионах, подвергнутых децимации, стали еще громче; лица тысяч солдат
других легионов выражали сострадание, глаза их были полны слез; тогда Глабрион, обратившись к своим соратникам, сказал:
– Если вы считаете смерть мою несправедливой и судьба моя вызывает у вас сострадание, если вы желаете, чтобы душа моя возрадовалась и обрела в тишине элисия сладостную надежду и утешение, поклянитесь богами Согласия, что вы все скорее умрете, чем обратитесь в бегство перед проклятыми гладиаторами.
– Клянемся!.. Клянемся!..
– Именем богов клянемся!.. – словно оглушительный раскат грома, загудели одновременно шестьдесят тысяч голосов.
– Да покровительствуют Риму великие боги! Я умираю счастливым! – воскликнул злополучный юноша.
И он подставил обнаженную шею под топор ликтора, который быстрым и метким ударом отсек светлокудрую голову; орошая землю кровью, она покатилась среди общего крика ужаса и жалости. Марк Красс отвернулся, чтобы скрыть слезы, катившиеся по его лицу.