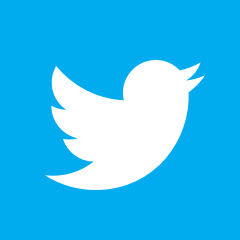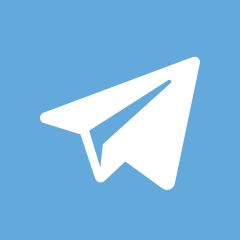Немного мракобесия
Московская область, река Злодейка, крапива, малина, репей.
По старинному веломаршруту, описанному в справочнике «Вокруг света», пытаюсь с боем прорваться из Серпухова в Москву. Окончательно застрял в Домодедовском районе. За последние годы на эту туристическую тропу вылезло столько естественных и неестественных преград, что хочется сменить велосипед на бульдозер. Высокие заборы приходится объезжать, невысокие ограды — брать штурмом. Занятие страшно неприятное и унизительное. Пересекая очередную границу и точно зная, что она незаконна, я все равно чувствую сокрушительное внутреннее неудобство и какой-то первобытный ужас. Точно такой же страх я испытывал и на берегу Суходольского озера. Это страх не чужого. Это страх чего-то своего.
— Итак, образ черты, межи или границы имеет очень глубокие корни в славянской модели мира. Родовое мышление русского человека связано с сакрализацией пространства. В нашей мифологии есть целый класс существ, охранителей границ. И главный дух границы, межи — это Чур. Он изображался в виде пограничного столба, идола с прищуренными глазами. Я думаю, вы с легкостью найдете следы этого Чура в нашем современном языке: чураться, чур меня, чересчур.
— Так вот кто щекочет человеческие нервы, когда пересекаешь незаконно возведенные границы! — спрашиваю я кандидата филологических наук Марину Князеву после ее лекции по культурологии студентам журфака МГУ. Она уже третий десяток лет занимается расшифровкой русских сказочных сюжетов. С кем еще, как не с ней, поговорить о магии забора.
— Не думаю. Чур — это не темная сила и уж тем более не средство обороны от внешнего мира. Чур — это охранитель границ, достигнутых в результате договоренности, в некотором смысле инструмент социальной гармонии. Именно поэтому наши предки, тем более на северных территориях, где принято жить общинно, никогда не возводили вокруг своих земельных участков стены. Им было достаточно небольших столбиков, в крайнем случае низенького плетня.
— Почему же так чудовищно неприятно пересекать чужие владения, даже если ты точно знаешь, что они не чужие, а общие?
— Это уже другой культурный код. Тут речь не о святости границ, а о магии огораживания. Если посмотреть на русские народные сказки, то добрые персонажи почти никогда не возводят вокруг своих владений непреодолимых сооружений, стена — исключительно признак зла. А злые силы в наших древних, дохристианских сказках — это не просто какие-то нехорошие люди. Это почти всегда те, кого правильней всего назвать «нежитью». Некие полуживые существа. Живые мертвые. Кощей, Баба-яга, Змей Горыныч, Черномор — все это персонажи из нижнего мира, которым вообще претят любые признаки человечности.
— «Что-то духом запахло человечьим!»
— Вот именно! И препятствия, которыми они огораживаются от внешнего мира, — это не границы частных владений. Это средство табуирования жизни. Почему люди до сих пор так ненавидят высокие заборы? Потому что он сам по себе, всем своим видом символизирует запрет на существование. На уровне своего культурного кода мы чувствуем: по ту сторону живут… мертвые. Именно живут и именно мертвые. И запрещают жить нам. И не только нам. Там внутри — плененное пространство. И, пересекая эту границу миров, ты испытываешь качественную перемену, ты чувствуешь себя уязвимым, униженным, игрушкой темных сил. Здесь не работают законы природы. С тобой тут могут сделать что угодно. Превратить в лягушку, посадить на лопату, украсть сердце, погрузить в вечный сон — в конечном счете ты станешь таким же полуживым-полумертвым. Вот откуда этот страх.
— Но ведь сами обитатели этого зазаборья едва ли ощущают себя живыми мертвыми. Они, скорее всего, тоже рассказывают самим себе какую-то сказку. Вот только какую?
— Они играют в тридевятое царство. Строят свой островок благополучия, где печи сами рожают пирожки, где летают жар-птицы и можно жить не по законам труда, а по каким-то особым, не человеческим нормам. Но у них не получается и никогда не получится. Образ непреодолимой стены в русских сказках — это еще и образ преследования. Препятствия за собой возводит тот, кто убегает. За ним смыкаются леса, загораются реки, рассекаются пропасти. За забором быть счастливым невозможно — это норма нашей культуры. Я уверена, что доминирующее чувство у людей по ту сторону всех преград — страх, чувство неуверенности, неустойчивости. Они боятся, что их права нарушат точно так же, как они нарушают права других. Они в плену собственного инстинкта герметизации. Помните, как в сказках представлена Баба-яга? Зубы на полке, нос в потолок врос. Ничего не напоминает? Это же гроб.
— Ну, мы что-то с вами совсем уж далеко зашли.
— Вы знаете, я ведь и сама выросла на Рублевке — еще той, советской. Это было чудесное место: река, сосны, каждый день гости. А сейчас я туда вообще не приезжаю и не буду там жить ни за какие деньги. Я предпочту самую дальнюю деревушку, но чтобы там были воздух, солнце и пейзаж до горизонта. Для меня теперь все эти Раздоры, Барвихи и Ромашково — самая натуральная тюрьма. Хтоническое пространство, картина нижнего мира, земля в обмороке.
Битва под Ротенбергом
Поселок Токсово, озеро Хепоярви, улица Туристов. Холмы, озера, ленинградская Швейцария.
Стародачное питерское место, гнездо технической и гуманитарной советской интеллигенции. Здесь писатель Алексей Толстой писал свою «Аэлиту», академик Игорь Курчатов рожал атомную бомбу, а теплоэнергетик Владимир Дмитриев разрабатывал план ГОЭЛРО. Сегодня их более скромные потомки изо всех сил обороняются от постсоветских колонизаторов. Но когда «бывшие» рассказывают про «нынешних», в их голосе не слышно злобы. Для них все эти заборостроители и правда какие-то сказочные персонажи, страшные и в то же время комичные. Слово предоставляется Елене Ждановой, дочери лауреата Сталинской премии физика Александра Жданова, одного из отцов советской атомной бомбы.
— Вон там перед заливом раньше прекрасный лесок был. Когда сквозь деревья солнце садилось, это был лучший закат на планете. А теперь там сами видите что — дача миллиардера Аркадия Ротенберга, того самого, который вместе с Путиным дзюдо занимался. Решил он тут как-то форель у себя развести. Насмешил весь поселок.
Стоп, сначала небольшая присказка. Аркадий Ротенберг перегородил не только берег, но и часть озера Хепоярви. Высоченный забор оккупирует небольшую бухточку. Заплыть в нее можно через шлюзообразные врата, украшенные какой-то хтонической композицией из толстых кореньев цвета человеческой кости — в общем, все, как культуролог Князева учила.
— Про эту форель пронюхали выдры, — продолжает Жданова уже наперебой с соседкой, Ольгой Трушовой, прадед которой поселился здесь еще до революции, а бабка была личной швеей балерины Анны Павловой. — А выдры — они ж не знают, кто такой Ротенберг. Прогрызли вот эти водяные ворота и устроили той форели большой геноцид. Вода начала гнить, пошла вонь, и остатки живой рыбы пришлось выпустить на волю — теперь у нас в озере водится форель, раньше никогда не было. Рыбаки когда ее из воды вытаскивают, приговаривают: «Спасибо Ротенбергу». Но даже без форели водоем продолжал вонять. Чтобы смыть остатки биомассы в озеро, им пришлось соорудить что-то вроде искусственного водопада, он тут целый месяц на весь наш полуостров шумел, спать не давал.
Таких историй в одном только Токсово хватило бы не одной Арине Родионовне. Единственная сила, которая еще продолжает сопротивляться эпидемии огораживания, — живая природа. Законы физики и биологии не поддаются подкупу и лоббизму. В ответ на возведение очередного забора экосистема устраивает бунт: то сосны сохнут, то территория заболачивается, то вдруг начинается нашествие лягушек, которые раньше ходили совсем другими тропами.
Под видом потенциального покупателя захожу в двадцатисоточное тридевятое царство. Территория обнесена со всех сторон забором метра в четыре высотой, а со стороны соседнего дома — все шесть, осталось только накрыть эти двадцать соток сверху гигантской крышкой. По периметру пожухлая зелень и грязь, потому что стены дают затенение и все живое под ними гибнет. Особняк стоит на первой линии Чайного озера, береговая полоса, естественно, захвачена, но даже со стороны воды территория огорожена забором.