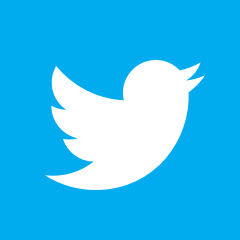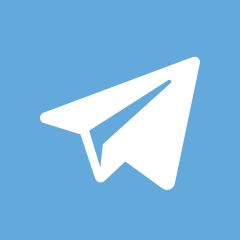— О чем вы писали?
— Не о том, как вообще жизнь устроена и чем плоха советская власть, а о разных общественных движениях. Газетой она называлась по недоразумению, в сущности, это newsletter, выходила стабильно и, смешно сказать, даже приносила деньги. Мы в какой-то момент начали на это жить, я бросил работу программиста. Потом пришли новые времена, и газета закрылась. Какое-то время жили на остатки — продавцы розницы расплачивались с большой-большой задержкой. Делали мелкие услуги, верстали: у нас версталась газета «Русский курьер», например. Тем временем Володя Прибыловский, не торопясь и совершенно не из коммерческих соображений, доделал справочник по «Памяти». Выяснилось, что если распечатать и переплести на пружинки — можно продать иностранному журналисту за 50 долларов. Это большие деньги для 90-х годов. И тут-то мы поняли, что обладаем большим количеством информации. Почему же не сделать это нашей работой? И стали выпускать справочники по политической жизни на постсоветском пространстве.
— Активизм хорошо совмещать с предпринимательством?
— Надо понимать момент: Союз разваливается, советской власти больше нет, все, светлое будущее наступило. Понятно, что оно не очень похоже на рай на земле, но никто и не ожидал. И, соответственно, к чему стремиться? Делать справочники интересно, просто любопытное занятие…
— Вы сказали, что не рассчитывали на светлое будущее. Сейчас же принято считать, что наивные неформалы и диссиденты верили в рай на земле.
— Я, честно говоря, не видел таких людей. Я не знаю, в каком состоянии ума нужно находиться, чтобы так считать.
— Ретроспективно любят так подавать историю.
— Это упрощение. Оно не лишено смысла вот в каком отношении: противостояние советской власти носило очень принципиальный характер, очень личный для многих людей. И когда экзистенциальная проблема решилась — цель жизни оказалась достигнута.
— Если для вас цель оказалась достигнута — как вы себя чувствовали? Как нашли новые цели?
— Честно говоря, я некоторое время пребывал в серьезном недоумении. «Некоторое время» — это я так слабо сказал: пару лет. Нет, понятно, что хотеть можно многого и в личной жизни, и в общественной, и в какой хочешь, но такой вот большой цели не наблюдалось. Постепенно я увлекся исследовательской деятельностью. И где-то с 1994—1995 годов стал заниматься националистами как предметом. Даже трудно сказать, почему так вышло.
— Трудно — скажите.
— У меня нет ясного ответа. Первое, что сделал в «Панораме», — справочник о политической жизни в Средней Азии. Мы чуть ли не в лотерее разыгрывали, кому какую часть Советского Союза окучивать. При всем уважении, глубокого интереса к теме не было. А здесь такой интерес появился. Мы назвали страну «Российская Федерация» и оказались неизвестно с чем. Мы не знали, что делать, как из неизвестно чего сделать полноценное государство. Возможно, поэтому заинтересовали националисты. Что они там себе думают? Иногда совсем дикие вещи, иногда не совсем дикие, но, по крайней мере, они думали.
— В условно либеральной, интеллигентной среде мысли о «национальной идее» часто отвергаются. Мол, мы — люди мира, так и живем себе.
— Каждый отдельный человек может, конечно, считать себя человеком мира и жить себе, но реальность заключается в том, что большинство людей так себя не воспринимает. И поскольку государство существует, существует и что-то, что связывает его граждан. Это может быть чем угодно, но в тот момент казалось, что ничто граждан не связывает. Что государство держится на честном слове, потому что пока никто не пнул достаточно сильно, чтобы оторвать кусок. Скажем, генерал Дудаев попробовал, и некоторое время у него благополучно получалось.
— Вы нашли что-то интересное в идеях националистов?
— Я не симпатизировал объектам изучения. Они в основном казались диковатыми и не слишком умными. Если про девяностые годы говорить — предлагались разные формы ностальгии: кому-то по советскому времени, кому-то по Романовым, кому-то по Рюрику. Кому что милее. Поэтому, когда появились, как тогда называли, «новые правые» (теперь они уже старые) — нацболы, скины, — это было любопытно. Эти люди отличались, они не фокусировались полностью на прошлом.
— У «новых правых» мог родиться более или менее консенсусный образ будущего, общая идентичность?
— Тогда мне так не казалось, а сейчас мы видим, что «не выросло», скажем так. Это не значит, что ничего не вырастет послезавтра. Просто, когда у нас начинают говорить про объединяющую идею, это обязательно предполагает великую идею глобального толка. Что мы должны быть как Америка, на худой конец — как Франция, но уж не как Польша или Чехия. А на самом деле масштаб наш не тот. Сложно смириться. Невозможно в европейской стране подойти к гражданам и спросить: какая у вас тут национальная идея? Никто не знает. Тем не менее гражданское единство существует. Оно состоит из институтов, из общих ценностей, из консенсуса по каким-то вещам.
— Сейчас много национал-демократов (по крайней мере, в крупных городах), говорящих о европейской идентичности. Они намеренно уходят от глобальности и имперского дискурса.
— Уходят. Не у всех получается далеко уйти, как мы знаем по опыту крыловской партии, но да, пытаются. И это, в принципе, очень хороший тренд, просто очень маленький. Люди из политической тусовки могут перечислить несколько групп и даже вспомнить фамилии. Страна же этого не замечает вот совсем. С бóльшим успехом можно сказать, что «Крым наш» — основа национального консенсуса.
— Вы уже говорили, что из «Панорамы» вы отпочковались в отдельный центр. Как это произошло?
— В какой-то момент пути многочисленного руководства «Панорамы» разошлись. У «Совы» появился правозащитный аспект, до нее мы просто исследовали некие объекты. Такой сдвиг, мне кажется, связан с объектом изучения. Националисты девяностых могли очень брутально выглядеть, но мало чего плохого делали. Ну, маршировали, скандировали лозунги и клеили листовки дурацкого содержания. В нулевые картина изменилась.
— Что произошло?
— Появились молодые люди, в основном скинхеды по стилистическому направлению. Они считали, что не о чем разговаривать, что не нужно выяснять подробности идейных разногласий, куда там идти России — к монархии, к республике, к православию или к неоязычеству, к капитализму, социализму. Только прямое действие. Первостепенный вопрос только в том, как «очистить страну от неруси». И очищение они понимали в буквальном смысле слова. Это изменило отношение мое и других людей как исследователей. Это перестало быть политическим течением. Стало реальной угрозой общественной безопасности и самому первому из прав человека — праву на жизнь.