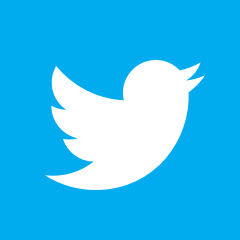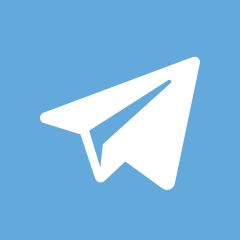V. Cпор
Можно было бы легким и даже обезоруживающим образом объявить проблему ИГ «проблемой неправильного ислама». Любая религия открыта для интерпретации, и сторонники Исламского государства выбрали совершенно определённую версию. И в то же время просто объявлять Исламское государство недостаточно исламским контрпродуктивно, особенно если мусульмане, услышавшие его призыв, читали священные тексты и находили там прямое одобрение многим практикам ИГ.
Мусульмане могу сказать, что рабство незаконно сейчас, и что распинать людей неправильно на текущем историческом этапе. Многие так и говорят. Но они не могут полностью осудить рабство и распятие, не противореча Корану и примерам из жизни Пророка. «Единственная принципиальная позиция, которую может занять мусульманский противник ИГ — это сказать, что некоторые ключевые тексты и священные поучения ислама больше не действуют», говорит Бернард Хэйкэл. И это будет актом вероотступничества.
Идеология Исламского государства имеет мощную власть над умами определённого типа людей. Лицемерие и двусмысленность жизни перед её лицом исчезают. Муса Серантонио и салафиты, с которыми я разговаривал в Лондоне, были непоколебимы: ни один из моих вопросов не заставил их запнуться. Они читали мне целые лекции — многословные и, со скидкой на обстоятельства, довольно убедительные. Назвать их немусульманами означает вязаться в спор, который они выиграют. Будь они пускающими пену маньяками, я бы мог предположить, что однажды их движение выгорит — когда последний психопат подорвёт себя или останется мокрым пятном на песке после удара беспилотника. Но эти люди изъяснялись с академической точностью, которая напоминала мне атмосферу хорошего университетского семинара. Я получал от общения с ними удовольствие, и это напугало меня едва ли не больше, чем всё остальное.
Немусульмане не могут указывать мусульманам, во что им верить. Но мусульмане очень давно обсуждают такие вопросы между собой. «Нужно соблюдать стандарты, — сказал мне Анжем Чоудари. — Есть люди, которые объявляют себя мусульманами, но терпят гомосексуалистов или пьют алкоголь, и они на самом деле не мусульмане. Не бывает непрактикующих вегетарианцев».
Есть, однако, ветвь ислама, которая предлагает радикальную альтернативу Исламскому государству — такую же бескомпромиссную, но с противоположным знаком. В этой ветви находят себя многие мусульмане, к счастью или к несчастью одержимые желанием исполнять предписания раннего ислама в каждой запятой. Сторонники ИГ знают, как реагировать на мусульман, игнорирующих отдельные места в Коране: такфир и злая издёвка. Но есть ещё мусульмане, которые читают Коран не менее усердно, чем они, представляя тем самым настоящую идеологическую угрозу.
Багдади салафит. «Салафит» сейчас часто означает террориста, не в последнюю очередь потому, что многие вполне реальные террористы гордо шли в бой под салафитским флагом. Но большинство салафитов на самом деле не джихадисты. Они, объясняет Хэйкэл, вполне преданы расширению Дар аль-Ислам, «земли ислама», и может быть даже со всеми положенными зловещими атрибутами вроде рабства и отрубания рук — но когда-нибудь потом. Их первый приоритет — личное очищение и религиозное созерцание, и всё, что вредит этим целям, — включая сюда войну и беспорядки, которые нарушат их распорядок, состоящий из молитв и чтения — они считают запретным.
Они живут среди нас. Прошлой осенью я посетил филадельфийскую мечеть Бретона Поциуса, двадцативосьмилетнего салафитского имама, принявшего имя Абдулла. Его мечеть стоит на границе между плохим районом Northern Liberties и джентрифицирующимися улицами, которые можно было бы назвать Дар аль-Хипстер; борода делает его там почти неотличимым от остальной публики.
Богословская альтернатива Исламскому государству существует — она так же бескомпромиссна, но делает из ислама строго противоположные выводы. Поциус был воспитан в польской католической семье в Чикаго и перешёл в ислам 15 лет назад. Как и Серантонио, в общении он кажется старше своих лет, и демонстрирует глубокое знакомство с древними текстами. Им движут, во-первых, любопытство и тяга к знаниям, а во-вторых, убеждение в том, что в этих текстах — единственное спасение от адского огня. Когда мы встретились в местном кафе, у него была с собой арабская книга о коранистике и самоучитель японского. Он готовил для полутора сотен своих прихожан пятничную проповедь об обязательствах отцовства.
Поциус говорит, что его главная цель — наставить своих прихожан на путь чистой жизни. Но появление Исламского государство заставило его задуматься о политических вопросах, которые обычно не занимают салафитов. «О том, как молиться и как одеваться, говорю в точности то же самое, что и они. Но когда они доходят до социальных вопросов, то начинают звучать как Че Гевара».
Когда появился Багдади, Поциус ввёл в оборот слоган «Не мой халиф». «Пророк жил во времена великого кровопролития, — объясняет он, — И знал, что хуже всего для людей состояние хаоса, особенно внутри уммы [мусульманского сообщества]». Таким образом, правильный салафит не будет сеять раздор, разделять мусульман и объявлять своих братьев вероотступниками.
Вместо это Поциус — как и большинство салафитов — верит, что мусульманин обязан устраниться от политики. Эти «тихие» салафиты, как их ещё называют, согласны с ИГ в том, что нет никакого закона, кроме божественного, и избегают вещей вроде выборов и политических партий. Но они трактуют кораническое осуждение раздора и хаоса как указание подчиняться почти любой власти, включая и греховную. «Пророк сказал: пока правитель не впадает в явное безбожие (куфр), повинуйся ему». Во всех классических «книгах веры» социальные революции осуждаются. «Тихим» салафитам строго запрещено разделять мусульман между собой — например, через массовые отлучения. Поциус соглашается, что жить без бай’a действительно означает жить во тьме невежества. Но бай’a вовсе не означает прямое подчинение халифу, и совершенно точно не означает подчинение Абу Бакру Аль-Багдади. Клятва может быть посвящена, в широком смысле, сообществу всех мусульман, под управлением халифа и нет.
«Тихие» салафиты верят, что мусульманин должен направлять усилия на очищение своей собственной жизни — молитву, ритуал, гигиену. Примерно как ультраортодоксальные евреи спорят, кошерно ли отрывать туалетную бумагу в Шаббат (считается ли это разрывом ткани), салафиты часами добиваются того, чтобы их штаны были правильной длины, а их бороды были подстрижены и отпущены в нужных местах. Они верят, что за это скрупулёзное исполнение предписаний бог однажды даст им силу и число, и тогда халифат появится. Тогда мусульмане отомстят и, да, одержат грандиозную победу при Дабике. Поциус процитировал нескольких современных салафитских богословов, считающих, что халифат не может появиться праведным путём иначе, как через ясно выраженную божественную волю.
Исламское государство, конечно, согласилось бы с данным утверждением, и добавило при этом, что бог отметил Багдади. Возражение Поциуса по сути сводится к призыву быть скромнее. Поциус привёл в пример спутника Пророка Абдуллу ибн-Аббаса, который отправился к недовольным и говорил с ними, и передал большинству мнение меньшинства о том, что оно неправо. Возмущение, доходящее до кровопролития или раскола уммы при этом, было запрещено. Халифат Багдади даже появился неправильным образом, объясняет Поциус. «Халифа приведёт Аллах, и его признают все богословы Мекки и Медины. Этого не было. Исламское государство появилось из ниоткуда».
ИГ ненавидит подобные разговоры, и его фанбои в твиттере часто издеваются над «тихими» салафитами. Они называют их «менструальными салафитами», намекая на запутанные рассуждения о том, когда именно женщину нужно считать нечистой и о других маловажных сторонах жизни. «Нам срочно необходима фетва о том, харам ли кататься на велосипеде по Юпитеру», — сухо пишет один из них. — «Вот чем должны заниматься ученые. Это важнее, чем дела уммы». Анджем Чоудари со своей стороны заявляет, что нет греха, более заслуживающего сопротивления действием, чем узурпация божественного закона, и что экстремизм в защиту единобожия не может быть грехом.
Поциус не получает никакой официальной поддержки от Соединённых Штатов. Официальная поддержка могла бы его дискредитировать. Кроме того, он озлоблен на Америку, которая обращается с ним, по его словам, как с «полугражданином». (Он утверждает, что правительство заплатило шпионам, которые внедрились в его мечеть, и что власти надоедали его матери вопросами о том, не может ли её сын быть потенциальным террористом).
Тем не менее «тихие» салафиты могли бы стать исламским противоядием против джихадизма в стиле Багдади. Людей, ищущих в вере повода для драки, невозможно удержать от джихадизма, но мусульмане, стремящиеся главным образом к ультраконсервативной, бескомпромиссной версии ислама, могли бы найти здесь альтернативу. Это не умеренный ислам; большинство мусульман сочло бы его экстремальным. Это, однако, форма ислама, которую буквалисты не могут назвать лицемерной или святотатственно очищенной от неудобств. Лицемерие — грех, которого идеологизированная молодёжь не терпит.
А вот западным политикам, пожалуй, стоило бы воздержаться от участия в богословских спорах совсем. Барак Обама сам забрёл на территорию такфири, объявив Исламское государство «не исламским» — ирония здесь, разумеется, в том, что он сам, немусульманин и сын мусульманина, формально являющийся вероотступником, объявил других мусульман вероотступниками. Такие случаи вызывают у джихадистов смех («Как будто покрытая испражнениями свинья учит других чистоте», твитнул один из них).
Подозреваю, что большая часть мусульман всё-таки оценила намерения Обамы: президент попытался защитить их одновременно и от Багдади, и от немусульман-шовинистов, готовых обвинить их во всех смертных грехах. Но большинство мусульман на самом деле не хочет присоединяться к джихаду. А те, кто хотел бы это сделать, только укрепились в своём убеждении: Америка лжет о вере ради собственной выгоды.
В узких границах своего богословия Исламское государство бурлит живой, даже творческой энергией. За их пределами, однако, царят тишина и безмолвие: жизнь как послушание, порядок и предопределение. Муса Серантонио и Анжем Чоудари могли без напряжения переходить от разговора о массовых убийствах и вечных мучениях к обсуждению достоинств вьетнамского кофе и сахарной выпечки, испытывая видимое удовольствие и от того, и от другого, но мне кажется, что для них краски нашего мира навсегда поблекли по сравнению с яркими гротесками мира потустороннего.
Я мог наслаждаться их обществом до определённого предела — в порядке стыдного интеллектуального развлечения. В рецензии на «Майн Кампф» в марте 1940-го Джордж Оруэлл признавался, что «никогда не был способен испытывать неприязнь к Гитлеру»; что-то в этом человеке было от несправедливо обиженного, даже когда его цели были трусливы или отвратительны. «Если бы ему надо было убить мышь, он сумел бы создать впечатление, что это дракон». Люди Исламского государства производят похожее впечатление. Они верят, что участвуют в войне, которая больше, чем их собственные жизни, и что быть случайно сметёнными в этой драме, погибнуть на праведной стороне — это привилегия и счастье, в особенности если это одновременно тяжкий крест.
«Фашизм, — продолжает Оруэлл, — психологически гораздо более действенен, чем любая гедонистическая концепция жизни. …В то время как социализм и даже капитализм, хотя и не так щедро, сулят людям: „У вас будет хорошая жизнь“, Гитлер сказал им: „Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть“; и в результате вся нация бросилась к его ногам. …Нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва».
В случае с ИГ следовало бы добавить сюда религиозную или даже интеллектуальную привлекательность. Исламское государство считает неизбежное исполнение своих пророчеств предметом догмы; это ясно демонстрирует нам, какой волей к победе обладает наш враг. Он с радостью готовится встретить своё почти поголовное истребление и даже в окружении верить в божественное избавление как награду за следование заветам Пророка. Идеологические приёмы могут убедить некоторых потенциальных рекрутов в ложности доктрины ИГ, военные средства могут ограничить казни и ужасы. Но в остальном с людьми, которых так тяжело переубедить, можно сделать очень мало. Это будет долгая война — пусть и не до конца времён.
Оригинал материала на сайте The Atlantic
Текст: Грэм Вуд, The Atlantic. Перевод: Родион Раскольников, «Спутник и Погром»