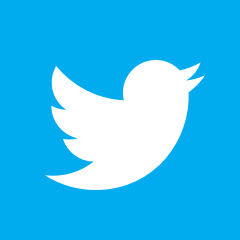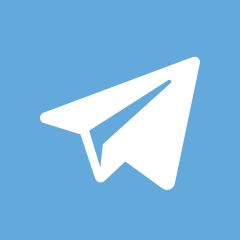Он рассказал мне, как жил с Никитой. Чем тот занимался. О чём думал. Он не считал мои вопросы глупыми или пустыми, и с радостью, во всех подробностях поведал мне о быте самого дорогого и близкого мне человека. Я очень благодарна ему за это. Пусть эта «таблетка» лишь на мгновение заглушила ту тоску и боль разлуки, которая живёт во мне уже полгода, но в это мгновение я была счастлива. Как же относительно это чувство. Иногда на нас сыплются все блага мира, и мы грустим. А порою какая-то ерунда, казалось бы, мелочь, а мы счастливы. На воле, когда мы были рядом и я могла в любой момент обнять его, над счастьем нам приходилось трудиться. Сейчас 15 минут рассказа о нём, без возможности даже получить от него письмо, посмотреть ему в глаза, а я счастлива…
Уже в камере, засыпая, у меня перед глазами всё стоял и стоял этот парень. Который, смеясь и радуясь нашей случайной встрече, рассказывал мне о муже. Он, так же смеясь, говорил о том, что, возможно, совсем скоро услышит свой приговор — от 20-ти лет и выше. Он сказал: «Мне, в общем-то, всё равно, пожизненный срок или нет». А я кричала, перекрикивая мотор автозака: «Мне не всё равно!». И очень хотелось плакать, но слёзы текли куда-то вовнутрь…
Целую тебя, мамочка!
Твоя Женя.
ЧЕТВЕРГ
Илья пришел на Чистые пруды. Это малое, но единственное, что он мог сделать для друга. Денег хватало только на метро и «Макдональдс», писать статьи в поддержку убийцы и террориста было бы слишком недальновидно в свете карьеры будущего федерального политика. Никита прекрасно знал и, наверно, желал бы сейчас сохранить свое детище «Русский образ», за которое теперь Горячев был в ответе. В молчании Илья видел свою ответственность перед пленным товарищем. Никита был для него чуть больше брата и чуть меньше учителя. Но следуя чувству долга, он не мог не прийти на площадь возле памятника Грибоедова, где собралась тысячная толпа в поддержку русских политзаключенных. Никита и Женя торжественно и трагично смотрели с пластиковых портретов, раздуваемых ветром. Публика была благодарная, сознательная и в теме. Перед такой массовкой ораторствовать Илюше доводилось крайне редко.
Обычно все бывало гораздо жиже. Царапнула зависть к чужой славе: кто молча убивал, теперь собирал целую площадь. А Илья не мог даже заставить себя залезть на грузовик, бывший импровизированной трибуной для выступавших. Он считал это благоразумием, подозревая себя в трусости. Закутавшись в шарф, Илья стоял за милицейским оцеплением, не решаясь слиться с толпой, валившей через «подковы» и шмонщиков. Рядом стояли его близкие, с повязанными шарфами и накинутыми капюшонами. С ними Илья расставался редко. Два родных брата – Миша и Женя, в каком порядке мальчики произвелись на свет знали только очень посвящённые. В кровности уз молодых людей примерно двадцатипятилетнего возраста можно было заподозрить только по лысым черепам и одинаково и равно оттопыренным ушам, в остальном они являли собой полную противоположность друг другу. Миша пребывал в образе фашиствующего гопника, спал со штангой; для устрашения соседей по кабакам, куда его пускали, и метрополитену, куда он заходил сам, носил скиновскую форму, сопливую бородку и страшно таращил глаза, озираясь по сторонам. Лет десять назад Мишаня, наверное, преуспел бы на ниве национального рэкета, если бы не страх, которым от него пахло вместо парфюма.
Илюша видел в этом недоразвитом викинге крепкое плечо, что было бесспорно, широкую спину и пару крепких рук, таскавших за ним ноутбук и необходимую канцелярию. Брат Женя был юристом организации. В два раза меньше родственника, во внешности и речи наружу лезла приторная колобковость, которую Женя подчеркивал модными розовыми рубашками, дешевыми, но вычурно блестящими часами и шелковыми шейными платками. Женя бесспорно был не гей, по крайней мере, он так утверждал. В обоз главы «Русского образа» входил штатный певец Сережа со сценической кликухой Ой-Ёй. Он неплохо рифмовал и грозно рычал правильные песни, благодарно встречаемые честной молодежью. И пусть это были марши и речитативы, но таково было время.
«Идти вперед, покуда будут силы. Идти вперед, пусть рвутся наши жилы! Идти вперед, хоть Цель ещё не видно. Прожить жизнь так, чтоб не было нам стыдно!» — стало вершиной творчества Ой-Ёйя и стало официальным гимном организации. Сережа был похож на культуриста, в одночасье бросившего железо как ненавистную работу, или просто был слаб на кишку. Впрочем, ни первое, ни второе не противоречило уставу «Русского образа», хотя и было причиной чрезмерной губастости, словно тяжелого последствия отцелованных на морозе санок. Чтобы не подставлять организацию под охранительный гнев, было принято официальное решение воздерживаться от участия в антиправительственных мероприятиях и сосредоточиться на культурном и спортивном просвещении, морально про себя оказывая поддержку заключенному соратнику. Через полтора часа митинг закончился, народ потянулся в метро. Чтобы избежать ненужных встреч со знакомыми, ребята ретировались в ближайшую пивную. Жидким хмелем был помянут Никита с досадой на его неосторожность и неуместное геройство.
За соседним столиком пристроилась молодая пара. Девушка с тусклой косметикой и бледными нарядами, мужчина в застиранном черном. Они улыбались и смотрели друг другу в глаза, словно нехотя, лениво, бесстрастно репетируя сцену на читинских драмподмостках. Блеклые, как промокашки, с пленочными глазами и анестезийными лицами. Дама, естественно, была не на каблуках, а у кавалера обувь была разбита, как у военнопленного. Даже любительский взгляд мог высчитать в этой парочке наружное наблюдение – «топтунов» на милицейском сленге. Как только ребята попросили счет, девушка взяла трубку, нажала вызов, однословно изъяснившись кому—то. Расплатились, дождались сдачи, поднялись. В кабак ворвались штатские, размахивая стволами и «корками», раскидали в стороны ошарашенных посетителей. Еще они орали, что «работает ФСБ», хотя никто не отстреливался и даже не возражал по поводу полежать на заплеванном кафеле. Мише, обладателю самых опасных пропорций, дали немножко в голову, дабы тот слился с полом. Остальным показали пистолет, а закованного Илюшу трофеем забрали с собой.