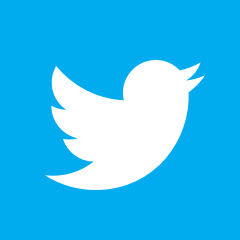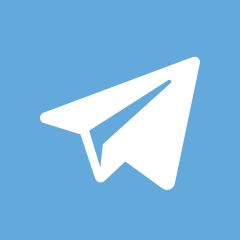– Тоже сложная вещь, никогда не поймешь. Про человека думаешь: а, наверное, он технократ, – ан нет.
– (Смеется.) Люди у нас тоже очень пластичны и контекстуальны. Это же не более чем схема, но схема, которая что-то очень важное улавливает. Этот конфликт во взаимоотношениях «технократов» и «силовиков» всегда был заметен и продолжается сейчас. Это обычная логика самосохранения частей системы в условиях ограниченности ресурсов. Если вы хотите поглотить оставшиеся ресурсы, вы должны доказывать свою нужность, должны пугать, должны заниматься экспансией. «Силовики» этим и занимаются. Другие, которые эти ресурсы вроде производят, «технократы», говорят: слушайте, у нас мало ресурсов, давайте мы как-то ограничим амбиции, попробуем договориться, попробуем что-то изменить.
– Я не понимаю, откуда берется политический вес «технократов». Есть же логика сохранения власти. Представим гипотетически, что какой-нибудь помощник Путина в администрации президента прочитает это интервью, вдруг испугается и скажет: ой, в 2017 году могут подкрасться какие-то страшные вещи, давайте-ка мы с этим что-то сделаем. А что можно сделать? Действовать можно репрессивно. Запретить Навальному участвовать в выборах, вам запретить в МГИМО работать, еще кого-нибудь разогнать. Однако до сих пор подобного не происходило. Я не понимаю, откуда берутся эти ресурсы сохраняющегося во власти условного «либерализма».
– Это не либерализм – это технократизм. Эти люди более-менее представляют, как устроена экономика. Путин чувствует, что «силовики» экономикой управлять не способны, они ее разрушат мгновенно. Поэтому он им и не дал карт-бланш на превращение репрессий против Улюкаева в репрессирование всего экономического блока кабинета министров и снятие премьер-министра Медведева. Путин, во-первых, доверяет Медведеву, а во-вторых, понимает, что «силовики» экономикой управлять не способны, у них нет вообще никого, кто способен управлять экономикой, кроме, возможно, Белоусова (помощник президента России Андрей Белоусов. – Прим.). Но он сам по себе, у него нет ни команды, ни концепции.
– И это, грубо говоря, сохраняет Навальному относительную свободу?
– У Алексея Анатольевича Навального, мне кажется, другая история. Репрессировать его уже опаснее, чем держать в подвешенном состоянии с братом-заложником. Все подвешены. Что касается моей скромной персоны, то любая система испытывает потребность в фигуре паяца, который, смеясь, говорит о том, о чем остальные боятся даже подумать, не то, что вслух произнести.
– Давайте поговорим о прогнозах, которые все так любят и которыми вы прославились в этом году.
– Это не моя заслуга, а журналистов.
– Боюсь, теперь уж вам не увернуться.
– Правда, уже никуда не денешься.
– У вас есть яркие прогнозы на 2017 год? Понятно, это динамическая вещь, сами предположения о будущем могут это будущее менять. Если бы все завтра начали поговаривать, что Медведев идет на пост президента, то это могло бы быть действительно информацией о намерениях Медведева, а могло бы оказаться специально запущенным слухом, чтобы воспрепятствовать этому выдвижению, а то и посмотреть, как Медведев будет себя вести, вдруг он тут и проколется. Но вдруг у вас есть представления о вероятном событийном ряде 2017 года?
– У меня такого яркого впечатляющего сценария, к сожалению, нет. У меня есть уверенное ощущение, что мы вступим в политический кризис. Но я не могу вам сказать, с чего он начнется. Скорее всего, это будет совокупность чего-то происходящего во власти и неожиданных эксцессов на низовом уровне, в том числе, возможно, массовых протестов. Но это будет первая стадия, которую удастся купировать, в Кремле вздохнут с облегчением, а потом все развернется с новой силой в 2018 году. Это не только моя оценка, а оценка людей, которые очень заинтересованы в понимании политики в России и которые своими, не очень понятными мне, но весьма эффективными аналитическими методиками пришли к такому выводу: в 2017 году в стране начнется политический кризис. Я знаю, что существуют методики, которые позволяют предсказать нестабильность, по уверениям их авторов, со стопроцентной точностью (я бы сказал, точностью не менее 75 процентов), – не то, как будет развиваться кризис, но то, что страна вступает в него.
— И эти методики говорят, что в 2017 году все начнется?
– Насколько я понял, да.
– То есть фактически прогноз такой: в 2017 году, сто лет спустя после русской революции, в России опять все начнется?
– Подчеркну: не революция, начнется именно политический кризис. У него будут свои этапы, приливы и отливы, он займет в общей сложности два с половиной – три года, и его кульминацией, видимо, станет 2018 год.
– 2017 год плюс два-три года – это 2019–2020-й.
– Это имеется в виду уже выход из кризиса.
– У вас есть представление, какой будет Россия на выходе из кризиса к 2020 году?
– У меня есть некоторый желательный образ, но представления не может быть в принципе. Даже если мы знаем диспозицию сил на входе в кризис, из этого не следует, какая диспозиция окажется на выходе. Это абсолютно непредсказуемо. Предсказать, как кризис будет развиваться, невозможно из-за того, что вы назвали динамизмом ситуации, а я называю обилием переменных. Но я уверен, что политическая система России будет решительно переформатирована.
– Тут два вопроса. Структура власти – можно представить себе, что Россия превратится в парламентскую республику, – и второе, вопрос персоналий. Не окажется так, что в новой структуре будут старые люди?
– Когда речь идет о масштабных политических кризисах – это, как правило, и смена людей, и изменение самой политической системы. Россия необязательно станет парламентской республикой или президентско-парламентской, она может превратиться в нормальную президентскую республику, потому что сейчас это сверхпрезидентская республика. Но изменить все, чтобы ничего не изменилось, уже не получится.